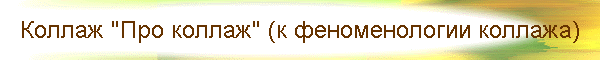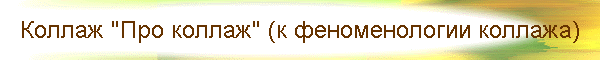|
§...
Коллаж,
Ассамбляж,
Монтаж, Декупаж;
Аппликация,
Декупаж,
Ассамбляж, Бриколлаж;
...Монтаж,
Коллаж,
Бриколлаж,
Декупаж, Ассамбляж,
Аппликация...
§...
В таком вполне просодическом
перебирании „четок" понятий прикладной эстетики
XX
века кажется допустимым
полагание дискурсивности их схождения.
§...
Однако в
первую очередь следует признать наличие у сегментов предлагаемой
историей просодии
прежде всего пластической заданности. Чтобы в том убедиться,
взглянем на отглагольные
имена
разглядываемых словесных форм, принадлежащих, отметим,
построениям французского
„извода":
склеивание или наклеивание —
collage;
мастерение или подделывание —
bricolage;
собирание или монтирование —
assemblage;
накладывание или прикладывание —
application;
вырезывание или кроение —
decupage;
подбор или соединение —
montage.
§...
Рассматривая
развернутые перед нами языковой практикой формы трудно не
заметить их определенности,—
определенности в предъявлении нам своей материальной
оформленности и дея-тельностной
(скажем так, чтобы удержаться от претенциозности „творческой")
направленности. К тому же определенность эта не просто
чувственная, но именно телесная, и даже сверх того —
тактильная. Словом, это та
определенность, что обращена к первоначальному телесному зрению.
В результате
мы и наблюдаем „вырезывание", „подделывание", „прикладывание",
„наклеивание",
наконец, „монтирование". Как-то так, верно? Хотя можно, понятно,
и в другом порядке,
и при другом подборе употребляемых форм.
Существенным
сейчас признаем лишь одно. Перебирание сообразно
искусствоведческой
традиции
подобранных категорий в конце концов должно отмечать
возникновение иной пластически
и семантически бытийной данности, должно означать возможность
возникновения
иной
онтологемы. Так что, не описывая никакой реальной формы, но
оставаясь связанным с
действительной реальностью, „коллаж", вместе со своими
производными составляющий „настоящую
эпистемологию", означает создание тождественного самому себе
объекта1.
§...
Если возможно
соотнести (а мы намереваемся поступить как раз подобным образом)
тактильное
зрение с
интенцией живописца, то базисной составляющей коллажа нам
придется признать
фактуру. Ведь
своим появлением на красочной поверхности коллаж обязан все-таки
пластическим свойствам и/или
качествам живописной формы. Фактура же, выводимая эстетикой —
через поверхность — из трехмерности массы и относимая — вновь
через поверхность — к двух-мерности
плоскости, и это притом, что собственно „поверхность есть
замкнутая сплошность осязательных точек"2,—
так вот, фактура, как имманентная составляющая поверхности,—
пространственна, и притом
пространственна, понятно, эксзистенциально. Не случайно, в то
первое десятилетие жизни коллажа, в то коллажное
десятилетие „бури и натиска" фактура
уподобляема „трепету жизни"3.
И подобно тому, как порыв ветра превращает плоскость водной
глади в поверхность
„девятого вала", творческая воля приводит в „трепет" живописную
форму и утверждает фактуру непреложным участником, а то и
организатором, „встречи субъективного
потока с объективным инобытием"4. Но в таком случае
нам придется признать, что факт онтологического
сведения „внешнего" и „внутреннего" показывает нам фактуру, а
следом, или вместе — коллаж, как феномен
трансцендентности, что, впрочем, отмечает уже Матвей в своей
знаменитой книжке. В ней на странице шестидесятой мы имеем
возможность прочесть буквально
следующее:
„Как известно,
русский народ пишет свои иконы, будь это изображение Бож.
Матери, святых
или каких-либо сцен в нереальных образах; реальный же мир
вносится в его творчество
только набором
и инкрустациями реальных, ощущаемых предметов. И тут будто
происходит
борьба двух
миров, внутреннего, персонального мира и мира внешнего,
осязаемого нами. Эти
два мира и тут
надвигаются один на другой; один мир покрывающий, другой
скрывающийся; общей фактурой мы получаем кусочек мистики; т. е.
символическим образом вызывается понимание
и ощущение новых миров и красоты"5.
Ну, и тогда
понятно, что всякий раз, когда нам приходится описывать фактуру,
а с ней и через нее — самый
коллаж, мы разглядываем не только схождение тех или иных
материалов и техник их
обработки и их соединения, но мы пытаемся увидеть собственно
процесс отображения
художником онтологического „трепета" живописной формы. Не оттого
ли коллаж и перестает
быть (кажется, тут же после своего изобретения) только лишь
конструкцией из бумаги (resp.
холста, etc.)
и клея, но усваивает всю полноту экзистенциальных дистинкций.
Коллаж усваивает всю
полноту метафизических соответствий и удерживает весь спектр
пластического
разрешения живописной формы, с рифмующегося описания которого,
напомним себе, мы начали свои рассуждения.
§...
Еще в 1905 году парижские проститутки
начинают позировать фотообъективу, проткнув головой
газету. А примерно восемью годами позднее Пикассо, внимая этой
подсказке фотографии,
стал вводить в свои картины
газетные вырезки6. Стихийная, едва ли не
анекдотически возникающая композиционная форма необходимо
включает в себя третье составляющее. Все, что происходит с
парижсками дамами и газетами, случается в пространстве. Однако
на плоскости холстов Пикассо эта компонента коллажа стремится к
нулю и почти не нарушает вековечной
двухмерности.
§...
К одному из
наиболее ранних опытов коллажного устройства художественной
формы возможно
отнести древнерусский „воздух".
Используемый в
христианской литургике покров предназначен для защиты чаши и
дискоса.
Им священник взмахивает во время чтения „Символа веры", колебля
воздух. И ему же Церковь
присваивает таинственное значение, соотнося „воздух" с тем
камнем, что привален был к
двери гроба
Спасителя7.
Компонента,
стремящаяся в коллажах Пикассо к нулю, в древнерусской
протоаппликации, между тем, обнаруживает себя, хотя бы и
нарративно: вся композиция выстраивается как безусловно
причастная воздушной стихии. Однако же и вне забвения тверди
земной.
§...
К концу жизни
Матисс обращается к технике декупажа. Эта версия коллажа давала
художнику
возможность прикасаться к онтическои сущности света и переживать
сильнейшие творческие
впечатления. „Рисовать ножницами,— говорил он.— Врезаться прямо
в цвет — это напоминает
мне непосредственное ваяние скульптур из камня. Именно так была
задумана эта книга
[то есть „Джаз".— Д. Б.]"8.
Матисс берет
листы ватмана. Окрашивает их гуашью разных цветов. Затем,
вооружившись
ножницами,
начинает заниматься графикой (или живописью?). И при этом он
испытывает чувство, доступное
лишь ваятелю,— он переживает трехмерность бытия творимой формы,
твердя: „каждому тону надо
представить пространство для распространения"9. (Вот
ведь и коллажист
Пикассо „обрабатывает краску, как скульптор массу"10.)
Но это
странно. Ведь странно же? Камень, ножницы, бумага. И аппликация,
или декупаж.
§...
„Камень. Ножницы. Бумага.
Раз, два,
три".
Есть такая детская считалка.
Это такая детская считалка.
Произнесение ее текста — текста, заметим, среди прочего,
магического по своей родовой принадлежности — должно
заключаться одним из трех соответствующих
жестов руки:
„Камень"
сжимает пальцы в кулак; „ножницы" выпрямляют и растопыривают в
прежней
композиции
средний и указательный пальцы; а „бумага" отменяет
первоначальный жест, распрямляя
и прижимая один к другому все пять пальцев. Что же до
начинающейся следом игры,
то она
позволяет понять описанное коллажирование из вербальных и
пластических форм как суть
получение композиции большей витальной силы,— всегда,
подчеркнем, большей. Последнее
обстоятельство, напоминая нам о мифопоэтической этиологии
приведенной считалки, позволяет
отнестись к образной рядоположенности „камня", „бумаги" и
„ножниц" как к космогонической синонимии „камня //
топора // бересты"11.
И постараемся
не упускать из виду того обстоятельства, что в магической
практике действие
все же не проговаривается, но совершается12.
§...
Исследователи
отмечают, что задачей Пикассо в 1910-е годы становится создание
глубины картины.
Для ее решения художник обращается к коллажному использованию
подлинных оформленных и
неоформленных предметов — вещей, или их фрагментов, и материалов13.
Задача
разрешается Пикассо с тем большим успехом, что цвету теперь (в
результате опытов
аналитического кубизма) нет нужды совпадать с формой. Он
начинает жить отдельно в виде металла,
дерева или уже знакомой нам газеты. Форма возникает, возникая же
— существует, благодаря
пластике соотнесения материалов. А добываемая Пикассо описанным
образом пластика
соотнесения материалов, по-видимому, и обеспечивает картину
искомой глубиной.
§...
Тогда у нас
есть все основания отнестись к коллажному обеспечению Пикассо
картины глубиной — глубиной
не иллюзорной, но реальной — как к конкретному объемостроению.
Однако выходящие из-под его
руки объемы, писанные кистью, приколоченные, пришитые или приклеенные
к холсту,— объемы эти по-прежнему имеют одно из измерений упорно
стремящимся к нулю.
Речь идет о
том измерении, что должно было бы обеспечить картину Пикассо
действительной глубиной. Между прочим, обеспечить в
соответствии с категорической устремленностью кубизма к
пространственному расщеплению живописной формы. Тем не менее,
невзирая на аппликативность устройства холстов и вопреки
достижению известной слоистости, Пикассо добывает для картин
прежде всего и в основном мнимую трехмерность.
§...
Пикассо
движется в своем добывании пространственности для жизни
живописной формы внутрь картины. Что естественно. Естественно,
покольку все ей предлежащее принадлежит иной реальности. А те
наслоения, которые приносят с собой в картину противоположно
направленную динамику и которые обязаны своим обитанием на
холсте аппликационным техникам,— эти наслоения
есть всего лишь воспоминание о жизни мазка в прежней живописи.
Поэтому, не
меняя направления поисков глубины картины, Пикассо вводит в свои
построения прозрачные плоскости, кулисы, подсказанные ему
парижскими витринами,— по замечательно
остроумному и продуктивному наблюдению Аксенова14. В результате
картина начинает усваивать искомую и взыскуемую
художником глубину,— глубину не линейную, определяемую
перспективой, но живописную, обеспечиваемую фактурой пигментно
или коллажно задаваемых поверхностей.
§...
В конце 1910-х
годов (но зато в самом начале советской эпохи — в период
революционного романтизма)
живописец Нина Яковлевна Симонович-Ефимова и скульптор Иван
Семенович Ефимов увлеклись созданием кукольного театра. От той
затеи уцелели (стараниями потомков) кое-какие куклы, а
среди них — несколько фанерных силуэтов. Последние, впрочем,
свидетельствуют о еще более раннем увлечении художников —
„полонившем" их в 1900-е годы театре теней15.
Разглядывая
эти чудом добравшиеся до нашего времени силуэты, приходится,
вольно или невольно, отметить их абсолютную формальную
независимость от своего первоначального функционального
предназначения. Теперь они кажутся эстетически совершенно
самостоятельными явлениями, несмотря на вполне технические по
своему происхождению включения: металлические „заплатки",
гвоздики, петельки и прочее. Так что взятые как сколлажированные
объемы, добрые старые „тени" выглядят не только и не столько
вполне ассамбляжно, сколько наводят на мысль о силуэтной, так
сказать, театрально-теневой анатомии коллажа.
Так вот,
теневой театр. Здесь между зрителем и тем пространством, где
находится кукла/актер, существует белая плоскость экрана. Его
видимая из зала сторона, та поверхность, что доступна для
ощупывания глазом, непроницаемо бела. Сторона эта — суть сторона
действительная. И с этой стороны и на этой стороне никакого
действа не случается16. Все действие — с куклами, декорациями и
прочим, все происходит по ту сторону белой грани — в пределах
мнимого пространства. А все, что происходит там — с той, другой
стороны белого листа (оговоримся здесь умышленно) — все это и
отображается. Вырезанный фанерный силуэт отбрасывает на экран
тень. Тень эта, принадлежа мнимой стороне поверхности,—
изображение силуэта или портрет тени17. Отбрасываемая
специально для того изготовленной формой, тень приклеивается
светом к невидимой нами стороне экрана и свидетельствует о
возможности пребывания изображения в незримом18, а заодно
— о пугающе19 двустороннем составе коллажной формы. «Павел
Александрович,— добавим к своему рассуждению свидетельство
Ефимова,— обещал принести „Мнимости"»20.
§...
 Поясняя
смысл исполненной В. А. Фаворским обложки к книге „Мнимости в
геометрии" ее автор, св. Павел Флоренский писал: „Вид через
оконное стекло <...> приводит к раздвоению: наряду
с самим пейзажем, в сознании налично и стекло, ранее пейзажа
нами увиденное, но далее уже невидимое, хотя и воспринимаемое
осязательным зрением или даже просто осязанием, например,
когда мы касаемся его лбом. Отсюда — живописная и архитектурная
проблема современного,
то есть затянутого стеклом, окна, как некоего лже-отверстия и
некоей лже-стены; в постройках с обширными стеклянными
покрытиями, и даже стеклянными стенами, эта проблема сделалась
весьма настойчивой. Поясняя
смысл исполненной В. А. Фаворским обложки к книге „Мнимости в
геометрии" ее автор, св. Павел Флоренский писал: „Вид через
оконное стекло <...> приводит к раздвоению: наряду
с самим пейзажем, в сознании налично и стекло, ранее пейзажа
нами увиденное, но далее уже невидимое, хотя и воспринимаемое
осязательным зрением или даже просто осязанием, например,
когда мы касаемся его лбом. Отсюда — живописная и архитектурная
проблема современного,
то есть затянутого стеклом, окна, как некоего лже-отверстия и
некоей лже-стены; в постройках с обширными стеклянными
покрытиями, и даже стеклянными стенами, эта проблема сделалась
весьма настойчивой.
Когда мы
рассматриваем прозрачное тело, имеющее значительную толщину,
например, аквариум с водой, стеклянный сплошной куб
(чернильницу) и прочее, то сознание чрезвычайно
тревожно
двоится между различными по положению в нем (сознании), но
однородными по содержанию (—
и в этом-то последнем обстоятельстве — источник тревоги —)
восприятиями обеих граней
прозрачного тела. Тело качается в сознании между оценкой его,
как нечто, то есть тела, и — как ничто, зрительного
ничто, поскольку оно прозрачно. Ничто зрению, оно есть нечто
осязанию; но это нечто
преобразовывается зрительным воспоминанием во что-то как
бы зрительное. Прозрачное — призрачно.
<...> Итак, в зрительном
представлении мира необходимо, наряду
с образами собственно зримыми, различать образы
отвлеченно-зрительные, присутствующие, однако, в представлении
неустранимо <...>. Иначе говоря, в зрительном
представлении есть образы зрительные, а есть — и как бы
зрительные. Не трудно
узнать в этой двойственности зрительно представляемого
двойственную природу
геометрической плоскости, причем собственно
зрительные образы соответствуют действительной стороне
плоскости, а
отвлеченно-зрительные мнимой. Ведь двусторон-ность
геометрической плоскости и есть символ дву-различного
положения в сознании зрительных образов, но — взятая предельно,
то есть когда толща разделенных слоев пространства бесконечно
мала, а несоединимость тех и других образов предельно велика.
Если переднюю сторону плоскости мы видим, то о задней
только отвлеченно знаем. Но
отвлеченно знать о некотором наглядном пробразе,
сущность которого — именно в его наглядности,
это значит иметь восприятие его каким-то иным, не зрительным,
способом, но с коррективом на зрительность чрез отвлеченное
понятие или чрез образ воспоминания. Действительность, в этом
смысле, есть воплощение отвлеченного в наглядный материал,
из которого и было получено отвлеченное; а мнимость —
это воплощение того же
самого отвлеченного, но в наглядном материале инородном
<...>"21.
|
В. А. Фаворский.
Обложка книги Павла Флоренского
„Мнимости в
геометрии". М.: Поморье, 1922 |
§...
Изобретаемые
Пикассо кулисы не подлежали изображению, поскольку сохраняли
родовую и видовую связи с
магазинной витриной — стеклянной прозрачной стеной.
Соответственно, плоскости
кулис представлялись Пикассо прозрачными, то есть невидимыми и,
стало быть, мнимыми.
Плоскость обнаруживает качество объекта умозрения.
§...
В 2004 году правнук Симонович и
Ефимова Иван Илларионович Голицын создает „Автопортрет" (29 х
19 см). На прямоугольнике бумажного листа он размещает
полихромное изображение,
которое со странной настойчивостью непривычно плотно заполняет
формат. Про такой
композиционный напор, с каким художник вписывает изображение в
бумажную плоскость,
обычно говорят, что на листе не остается места для воздуха. Он и
впрямь вытесняется вместе с
физически удаленными
остатками бумаги.
Зато
изобразительная структура портрета включает в себя наряду с
традиционными собственно графическими составляющими сделанные
ножницами прорези. Неожиданная компонента, явно сознаваемая
автором как элемент графической поэтики, она обусловливает
насыщение творимой
формы воздухом и обеспечивает ее соединение с материалом
действительного пространства. Когда-то, впрочем, именно об этом
говорил один из апологетов импрессионизма: „Воздух единственный
реальный сюжет картины, только через него мы видим все, что на
ней изображено"22.
Такое
соединение пластики художественной формы с воздушным телом
оказывается тем более
актуальным, что портрету надлежит быть свободно подвешенным за
одну расположенную
в верхней
части изображения точку. Сообразно с этим фактом, вполне
экзистенциальным, „Автопортрет"
распространяется в живом пространстве и... отбрасывает тень.
Между тем,
разглядывая и сравнивая объект и его тень, мы оказываемся по
воле художника в завораживающе трудном положении, наблюдая за
их странным сходством/несходством...
Да, да,
именно так: нам устрашающе легко наблюдать за тем, как длится
неявным образом возникающая
на наших глазах соединенность того, что продолжается, обычно,
действительно, с тем, что в своем пребывании столь же обычно
скрыто от нашиих глаз. Может показаться, что
этот
„Автопортрет" иллюстрирует то давнишнее наблюдение, которое
приводит Моклер и которое
позднее задевает Пунина в его размышлениях по сходному поводу:
„Тайна материи ускользает
от нас, мы не знаем в точности, где граница реального и
нереального"23. Не получается ли в таком случае, что
перед нашими глазами возникает портрет схождения двух
онтологических состояний. И,
принадлежа и отображая пребывание формы в двух реальностях —
действительной и мнимой,
„Автопортрет" оказывается коллажным переложением силуэтных
опытов „Пра" автора.
Однако, отделенный от тех экзерсисов столетним рубежом, потомок
совершает „в сознании
минутной силы" отчаянную попытку сделаться портретистом этого
великого схождения, беря не палитру, как некогда, но —
бумагу, ножницы и тень.
§...
 Эйзенштейн
всегда будет отдавать предпочтение декупажу перед коллажем24. Эйзенштейн
всегда будет отдавать предпочтение декупажу перед коллажем24.
Между тем, когда он — в бытность
свою студентом Государственных высших режиссерских курсов —
начнет уводить одну из готовящихся постановок от сцены,
столетиями распластывающейся
вдоль рампы, к манящим и устрашающим глубинам просцениума,
обнаруживаемым „деревянными
конструкциями из мостков, лестниц и колес"25, вот
тогда-то любимый ученик Мейерхольда
и принимается за коллажирование. Но почему? Отчего Эйзенштейн
изменяет своим эстетическим
предпочтениям? Не потому ли, что новейшее художественное
сознание приводит на
смену монокулярному мышлению мышление стереоскопическое. И не
потому ли, что взамен од-ноплановой пластики приходит пластика,
распространяющаяся в обе стороны от онтологических
пределов и предъявляющая, и
утверждающая артефакт в качестве мифопоэтического конструкта. К
тому же разбираемый случай чреват весьма примечательным
стечением обстоятельств.
Для
построения коллажных форм Эйзенштейн использует
обратную
сторону географических карт. Тогда...
Тогда, если карта есть
отображенность пространства на — в терминах Флоренского —
действительной стороне плоскости,
то коллаж оказывается размещен на ее мнимой стороне. Так что
возникающие в результате творческого воления на
этой стороне формы
сохраняют не только свою принципиальную
принадлежность трехмернй реальности, но и оберегают
сокровенную верность
реальности смысловой. Потому, следя
за тем, как изображает
Эйзенштейн театральное действо-бытие,
нам приходится осознавать возникающий коллаж в качестве
действительной расчерчиваемости сопряжений смысла26.
|
И. И.
Голицын. Автопортрет. 2004
Бумага, вырезание, тень. 29 х 19
Собственность автора, Москва |
§...
Тут уместно
упомянуть еще об одном картографическом обстоятельстве
бытования коллажа.
Спустя
полвека после описанного опыта, в начале 1970-х годов московский
художник Анатолий Брусиловский возьмется за коллажирование с
географической картой. Однако, в отличие от случая Эйзенштейна,
работа Брусиловского будет отнесена исключительно к
действительной стороне картографического листа. А поскольку
художник предпочтет пользоваться в основном физической (а не
политической или экономической, etc.) модальностью последнего,—
поскольку он
предпочтет пользоваться этой модальностью ввиду более
высокой образно-символической организации собственно
изобразительной формы физической
карты, постольку коллаж будет размещаться исключительно в
пределах смыслового устроения изображения. Так что в
результате, коллажирование перестает быть всего лишь
художественным приемом, но усваивает свойства и качества
эстетической методологемы, равно как и собственно коллаж
оборачивается предметом изобразительной онтологии, отказываясь
от исключительной объектности своего бытования.
A propos,
наблюдаемое нами экзистенциальное претворение коллажа напоминает
о сходном опыте Макса Эрнста. Относящееся к 1933 году и
поименованное „L'Europe apres la pluie I" („Европа после дождя
I"), это станковое произведение воссоздает живописно (масло,
гипс на фанере, 101 х 149 см) суть картографический образ,
который с достаточной для нас определенностью
соединяет
„случайное" обстоятельство Эйзенштейна с „неслучайными"
вариациями Брусилов-ского. К тому же картина Эрнста принуждает
вспомнить о его дефиниции коллажа именно как „внезапного,
подобного прыжку над онтологическим зиянием реальностей,
схождения в единой точке бытийных противоположностей"27.
§...
Для получения
глубины картины Пикассо добивается той самой пластической
заданности, которую мы уже попробовали было описать посредством
перебирания форм из отглагольных имен.
Художник вырезывает, прикладывает,
наклеивает — мастерит. И вот уже тело прозревае-мой
глубины картины и клубится, и дыбится, и скрежещет, и течет,
подобно... юродствующей
и стонущей плоти горы Св.
Виктории на одной из штудий Сезанна.
§...
Тут,
пожалуй-что, и впрямь уместно будет взглянуть на последнее в
творческой жизни Сезанна изображение горы Св. Виктории,
происходящее, кстати сказать, из собрания С. И. Щукина. Да, да.
Из того самого собрания новейшей французской живописи, что, не
забудем, взрастило русское
искусство начала
XX века.
Пребывая ныне в коллекции ГМИИ им. А.
С. Пушкина (инв. № 3339), картина экспонируется как „Пейзаж в
Эксе". В пояснение к ней посетителю музея, однако, сообщается:
что это — „самый последний [т. е. написанный художником в январе
1906 года.—Д. Б.] вид горы Св. Виктории
(со стороны Лов)", для работы над которым Сезанн „на сеансы
ездил в экипаже, поскольку
сеансы проходили в очень удаленном от города месте"; что „предкубистские
кристаллообразные мазки придают живописной поверхности
особый динамический характер"; и что
opus
— „один из наиболее
космических пейзажей Сезанна".
Не оттого ли
пятое „Восьмистишие" Мандельштама кажется схолией, начертанной
на стене
музейной залы
подле „последнего вида горы". И не оттого ли „Восьмистишие"
представляется
отнесенным к
этому „последнему виду" как к живописному завещанию „великого
затворника из Экса", для
писания которого завещатель, бывало, отправлялся — подобно
мифологическому герою — к пустынным дальним берегам реки и там
присутствовал (и впрямь, в последний
раз) при живописном
устроении вселенского пространства, громоздящем „Лествицей"
струпья звучных ступеней всех красок мира и горой воздымающем
земную твердь ко тверди небесной всей мировой протяженности:
Преодолев
затвержденность природы
Голуботвердый
глаз проник в ее закон:
В земной коре
юродствуют породы
И, как руда,
из груди рвется стон.
И тянется
глухой недоразвиток
Как бы
дорогой, согнутою в рог,—
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка, и купола
залог28.
Вот ведь и в
смысловом звучании стихотворения, каким его наделяет культурное
сознание, явственно
различима тема мольбы о неутолимости человеческой жажды
пространства. К тому же, за
месяц до записи этой вещи, в ноябре-декабре 1933 года (в одном,
приведем все же и обстоятельство
места, из „московских домов"), Пастернак слушает в исполнении
автора предшествующее „Восьмистишие" — „О, бабочка, о
мусульманка", все восторг и ужас владения пространством.
Но главное, оно звучит тут же вослед только что завершившейся
декламации „Разговора о Данте", во все время
продолжения которого мелодия тоски человеческой культуры по
„рассеченному
пространству" длится не смолкая.
А среди внимающих той мелодии, вместе
с Пастернаком — Татлин. Факт немаловажный для
текущих размышлений29.
§...
Итак, глубина словно бы стремится
покинуть материальные двухмерные пределы картины.
Но Пикассо
прозревает необходимую ему глубину в иной, противоположной
протяженности
картинной действительности. Все коллажные манипуляции ведут
художника, а стало быть
и наш взгляд,
в противоположную сторону, в глубь холста. Это движение, чем
дольше, тем неотвратимее
отвергает конкретную пространственность, оставляя в удел
созерцающему живописно-пластическую
бездну двухмерности.
§...
В марте 1914 года Татлин попадает в
Париж, где с ним происходит „нечто весьма значительное"30.
Происшедшее с художником современники, а позднее — историки,
связывают с фактом
посещения им парижской мастерской Пикассо. И хотя действительный
ход событий, равно
как и тогдашние обстоятельства, вряд ли могут быть теперь
доподлинно восстановлены, одно
из свидетельств очевидца способно навести нас, как кажется, на
вполне продуктивное
рассуждение.
Так вот,
оказывающийся в Париже Татлин обращается к своему коллеге и
соотечественнику, давно натурализовавшемуся во Франции Жаку
Липшицу с просьбой сводить его к Пикассо.
Во время посещения мастерской, к изумлению Пикассо, Татлин
предложил себя в качестве
домашнего слуги — с целью открыть секрет работ Пикассо. Пикассо
не принял этой идеи. На
обратном пути с Липшицем Татлин внезапно сел на край тротуара и,
будучи вне себя от негодования,
пробормотал: „В этом кроется нечто... Я выполню часть этого дела
за него"31.
Мы вправе
отнестись к мемуару Липшица с известной долей сомнения. Повод
для того дает
и
припомненная им собственно просьба российского „ходока", и
описание мотивации той
просьбы у
мемуариста, и, понятное дело, реакция просителя на полученный
отказ. Словом, вся
история
выглядит как-то не про Татлина рассказанной и больше
напоминающей случай из жизни „Парижской школы", нежели фрагмент
биографии русского футуриста.
Тем не менее
воспоминание Липшица, пусть не достоверное фактически,
определенно отмечает
синтагматичность (осмелимся все же так сказать) происходящего с
Татлиным-живописцем. Синтагматичность, поскольку найденное
Пикассо разрешение живописной формы и то,
что увидел и
понял Татлин в его парижской мастерской, могли иметь своим
первым импульсом
представление
о реализуемой осязаемости цвета. (Ведь не случайно списку
важнейших работ,
составляемому
для пунинской монографии о своем творчестве, Татлин предпосылает
текст
двух лозунгов, первый из которых: „Ставим глаз под контроль
осязания"32.) Увиденное же и
представленное подобным образом должно было привести к
преодолению пределов кубистиче-ской
поэтики. Ну, а преодоление формологических рецептур кубизма вело
к изменению предметной
конфигурации эстетики живописного делания, по крайней мере
прикладной.
Должно быть,
как-то так надлежит понимать заинтересовавшую нас
транскрибированную Липшицем фразу Татлина: „В этом кроется
нечто... Я выполню часть этого дела за него".
§...
В начале весны 1914 года из Парижа
возвращается Татлин. Возвращается — „с контр-рельефа-ми
в голове" 33. А через сорок дней в его московской
мастерской открывается выставка „парижского
багажа". Показанное тогда на Остоженке поначалу называлось „синтезиостатическими
композициями", потом — „живописными рельефами", и наконец
— „контр-рельефами".
Устроенная
на доске живописная композиция „Старо-Басманная" как будто бы
наследует аналогичным
построениям Пикассо. Татлин изображает плоскости простых, по
преимуществу, прямоугольных форм. Формы эти по-разному окрашены
и офактурены. Они собраны в лаконичный
силуэт, но образуют сложноорганизованную ступенчатую структуру.
Вершина построения
задана тающей на наших глазах по-пикассовски стеклянной
„витриной", на которую нанесена
белая трафаретная надпись, дающая имя всей композиции. И сразу
под ней — темный
прямоугольник с изображением числа34.
(Заметим
между прочим, что перед нами адрес мастерской Татлина, следующей
после осто-женской, где
состоялась выставка контррельфов; но это также еще и — „эмалевые
буквы" с витрин пикассовских аппликаций.)
А тогда,
возвращаясь к прерванному рассуждению, если принцип устроения
формы художник
мог счесть заявленным достаточно, наш взгляд, перескакивая с
плоскости на плоскость, должен
был бы двигаться вглубь, двигаться безусловно и непрестанно
вглубь изображения. Однако...
Однако это
движение вглубь не делается бесконечным. Его
предел
очевиден. Он обозначен полем доски, несущей на себе
изображение
всей композиции, не давая обмануться нашему взгляду, как это
происходит в „картинных глубинах" Пикассо.
Мало того, как у Пикассо — движение
в глубину, так и глубинное
движение у Татлина обеспечены колористически. Краплак и охра
здесь перебивают коричневые и кобальтовые. Светлые тона
безусловно преодолевают темные и закрепляют свое превосходство
белым, извлекая наш взгляд из „картинной глубины".
Но тогда придется признать, что вектор татлинской композиции
направлен не от зрителя, но в противоположную сторону, к
иной глубине — навстречу предлежащей изображению действительной
пространственной беспредельности.
Сколлажированная при посредстве живописной техники и
датируемая
1916
годом „Старо-Басманная", несмотря
на изрядную плотность
цветовых и фактурных поверхностей, демонстрирует готовность
живописной формы к существованию в бескартинном пространстве.
„Склеивание", „накладывание",
„соединение" кажутся
сохраняющими свою актуальность. Ведь эта композиция
Татлина возникает, как то видно из ее
названия и датировки, уже
вослед настоящим „материальным подборам" и „контр-рельефам".
В
таком случае не отнестись
ли к разглядываемому
построению как к мемуару живописца
об одном из самых ярких
эпизодов творческой жизни, но также
и как к необходимому отрицанию учеником своего учителя,
и,
что
особенно
важно для
нас, как к живописному обнаружению выхода в онтологическое
пограничье, к энергийно-по-тенцийному
рубежу творчества.
§...
 Спустя
восемьдесят лет, и даже в другом, вовсе в другом районе Москвы,
живописец Николай Иванович Касаткин напишет триптих „Мамины
коврики" (Холст, масло, 200 х 140 см — левая часть „Полдень",
200 х 150 см — центральная часть „Утро", 200 х 140 см — правая
часть „Уход"). В срединной части композиции цикла на фоне
смоленского пейзажа окажутся изображения лоскутных половичков,
которые мать художника мастерила на старости лет из разноцветных
и, соответственно, разнофактурных обрезков материи. Образы тех
„маминых бриколлажей" Николай Иванович будет воссоздавать с
исключительным иллюзионизмом, настаивая со всей доступной для
подобного случая решительностью на привязанности триптиха к
жанру обманки. Спустя
восемьдесят лет, и даже в другом, вовсе в другом районе Москвы,
живописец Николай Иванович Касаткин напишет триптих „Мамины
коврики" (Холст, масло, 200 х 140 см — левая часть „Полдень",
200 х 150 см — центральная часть „Утро", 200 х 140 см — правая
часть „Уход"). В срединной части композиции цикла на фоне
смоленского пейзажа окажутся изображения лоскутных половичков,
которые мать художника мастерила на старости лет из разноцветных
и, соответственно, разнофактурных обрезков материи. Образы тех
„маминых бриколлажей" Николай Иванович будет воссоздавать с
исключительным иллюзионизмом, настаивая со всей доступной для
подобного случая решительностью на привязанности триптиха к
жанру обманки.
Дело, впрочем, не только в том, что
перед нами мастерски исполняемая живописная имитация некоей
фактурной пластики. Интересно иное. И это иное — много
существеннее. Ибо приводимое живописное обстоятельство, вполне
определенно наследующее натюрморту из фактур со Старо-Басманной,
настойчиво подражает одной из модификаций коллажной технологии,
а стало быть — и одной из наиболее популярных в минувшем
столетии (особенно во второй его
половине) художественных
практик. Словом, мы можем вполне допустить, что триптих изображает,
ну, скажем, ассамбляж.
Однако же нам
предъявляется такое „коллажное" воплощение, которое есть
одномоментно и сам живописная вещь, и принцип ее
материально-пространственного устройства. Так что Николай
Иванович создает в конце
XX
века трехчастную картину жизни художественного сознания. И
делает он это так же, как Владимир Евграфович в начале века
XX,
самым что ни на есть привычным
для живописца образом: масляными красками на холсте, натянутом
на подрамник и
поставленном на станок. Между тем традиционно исполненный
живописный портрет Коллажа Николай Иванович так прямо и
называет — „обманкой".
Для того,
чтобы обмануть зрителя, от художника требуется, в сущности,
немногое: виртуозно
владеть живописно-графической техникой. Всего-то лишь. Тем не
менее обладание таким
умением ставит
„обманывателя" в своеобразное эстетическое положение. Оно
состоит в иллюзорном представлении выведенности изображения из
пределов картинной плоскости в пространство
действительной реальности. Однако обыденное изображение имеет
вектором своего структурного
устроения динамику композиционной формы от поверхности
плоскости, будь то холст или
бумага, к глубинам на ней отпечатленного,— к глубинам, заметим,
влекущим и безвидным. Если
же это волимое художником движение, миметически последовательное
и психологически
желанное, обусловлено мнимо длящейся протяженностью и таковой же
длительностью, то... То движение обратное, кстати, также
возникающее по воле художника,— это обратное движение
должно быть направлено к предлежащей изображению
пространственности, дабы вернуть
зрителя к подлинной, к
истинно живой объектности. В результате восхищение обманным изображением
оборачивается для созерцающего приведением картинной плоскости к
пространству
действительной реальности. Это, в сущности, онтологическое
преобразование, осуществляется вместе со всем,
преобразованием тем захваченным: вместе, скажем, с „как живой
птичкой",— вместе с „как
настоящими картами" на ломберном столике и рядом лежащей
акварелью, прикрытой папиросной бумажкой, чей уголок, вдруг
загнувшись, обнаруживает край чудесного в своей
достоверной убедительности изображения,— вместе, наконец, с
полыхающими на смоленских
ветрах „мамиными ковриками". Словом, все вместе предлагает
новейшему зрителю
переживать „обманку" как артефакт двойной природы, то есть не
только лишь как форму живописно-графическую, но и в
качестве эстетического принципа, а в этом плане — как виртуальную
коллажную форму.
И круг
рассуждений этого параграфа замыкается. Наконец-то.
§...
Они голубой
тихославль,
Они
голубой окопад.
Они в никогда улетавль,
Их крылья шумят невпопад.
Летуры
летят в собеса
Толпою ночей исчезаев. <...>
Они в голубое летеж —
Они в
голубое летуры.
Окутаны вещею грустью,
Летят к
доразумному устью,
Нетурные крылья, грезурные рты!
Незурные крылья, нетурные рты!
<...>34 —
это рассказ
Зангези об улетающих богах, напуганных мощью человеческих
голосов и шумом
битв и исчезающих в „мнимых" краях „доразумного устья"...
Сопоставим повествование хлебниковского пророка с хлебниковским
же портретом автора „материальных подборов":
Татлин,
тайновидец лопастей
И
винта певец суровый,
Из
отряда солнцеловов.
Паутинный дол снастей
Он
железною подковой
Рукой
мертвой завязал
В
тайновиденье щипцы.
Смотрят, что он показал,
Онемевшие слепцы.
Так
неслыханны и вещи
Жестяные кистью вещи 35.
§...
В
каталоге-резоне „Владимир Татлин. Ретроспектива" наше внимание
должен непременно привлечь
один из разворотов. На его левой полосе воспроизведен
контррельеф 1916 года, а на правой — калька с изображением
мачты и парусов для „Летучего голландца" 1915 36.
Соседство этих
двух произведений вряд ли будет правильно счесть случайным.
Однако, как бы мы не отнеслись к подобному решению автора,
совмещение образов и в самом деле поражает
неожиданным сходством художественного строя.
Калька с
изображенной на ней упрямо наклоненной навстречу ветру мачтой
кажется безусловной
частью громады парусов, которая делает корабль плотью от плоти
морской и воздушной стихий. В
контексте ведущихся размышлений это рассуждение может быть
сочтено вполне коллажным.
Причем в самом идеальном, в самом мечтательном его варианте.
Бумага, грифель и воздух со
всеми актуально
пребывающими за ними космическими стихиями сходятся наконец-то в
искомой художником
мифопоэтической целостности, хотя бы и трудно представляемой
пластически.
По-видимому,
те же упорство, умозрительность и пластическая невероятность
отпечатлелись в контррельефе. Иначе как еще истолковать его
неумолимо-круглящиеся, словно вздувающиеся
под напором
ветра плоскости. Как еще отнестись к решительности и
непременности наклона этих
плоскостей,
очевидной соотнесенности их прерывности и протяженности,
ускользающей определенности цветового строя. И как еще можно
понять, в конце концов, безусловную соединенность
тех
плоскостей с потаенной мнимой пластикой действительного
воздушного тела. Того тела, что
подлежит
наконец-то „оклеиванию", „прикладыванию", „кроению",
„монтированию".
Наконец-то!,
воскликнем мы, пожалуй, еще раз...
§...
Итак...
Итак, мы
коснулись короткого, но славного периода в развитии новейшей
живописи. Приходящийся на
девятисотые — десятые годы
XX
века, он замечателен, помимо прочего, превращением спонтанно
найденного кубизмом Пикассо и Брака живописного приема
collet
— в метод художественного мышления
collage.
Феноменологически эта метаморфоза отмечена переходом живописной
формы от двухмерного
модуса бытия к
модусу трехмерному. Что же до обстоятельства перехода, то мы
склонны связывать его с
фактом посещения Татлиным весной 1914 парижской мастерской
Пикассо. Там русскому
художнику удается увидеть нечто такое, что позволяет ему
вернуться в Москву с материальными
подборами, живописными рельефами и контррельефами „в голове";
Татлин возвращается в Москву, чтобы осуществить переход от
картины к конструкции, уведя живописное изображение
из плоскости в поверхность
онтологически сходящихся фактур. Собственно, подобное изменение
бытия живописной
формы и следует связывать с коллажированием.
§...
Таков
вероятностный дискурсивный маршрут нашего продвижения к
пониманию феноменологии
коллажа. Ну, а коли начало прокладывания этого пути отнесено к
„землям" русского классического авангарда, тогда и выводимое
рассуждение-коллаж „Про коллаж" вполне может завершиться
так же, как оно начиналось — коллажным
paternoster'ом:
...Аппликация,
Декупаж, Ассамбляж,
Бриколлаж,
Монтаж,
и Коллаж.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Памятуя
о генетической связи коллажа с кубизмом, ср.: «...кубисты хотели
изображать не любой объект,
но объект-тип, признаки которого могли бы находиться в каждой из
его разновидностей. Речь
идет об искусстве, которое не было подражательным в традиционном смысле
этого слова, но оставалось реалистичным. Поэтому, не будет
преувеличением сказать, что кубизм представляет собой „настоящую эпистемологию"». Энциклопедический словарь живописи: Западная
живопись от средних веков до наших дней. М.: Терра, 1997.
С. 458.
Правда „эпистемологизм" кубизма, а
стало быть и интересующего нас коллажа, должен обозначать
соединение сущности формы и ее вещественной отраженности. А это
фиксирует уже саму границу между бытием и становлением, равно
как и рубеж между бытием и „безначальным началом" бытия. Пожалуй
что так. И вряд ли, верно, по-другому.
2
Габричевский А. Г. Поверхность и
плоскость // Труды секции искусствознания (Института археологии
и искусствознания Российской ассоциации научно-исследовательских
институтов общественных наук). М.: Работник просвещения,
1928. Вып. 2. С. 40.
Нужно заметить, что рукопись этой статьи Александра
Георгиевича, равно как и рукописи многих
других его научных разысканий, заполняет толстую
ученическую тетрадь в коленкоровом переплете буро-зеленого цвета. Однако на передней сторонке
обложки этой „замкнутой сплошности..." автор размещает своеобразное граффити, исполненное
фиолетовыми чернилами. Вместе с тем, включаемая в разглядывание процедуры коллажного оснащения
конкретной поверхности, рукопись Габричевского способна
заинтересовать (и, конечно, уже заинтересовывает нас) еще и с
этой, вполне формальной стороны. Отчего мы и рискнем привести
здесь ее описание.
В центре обложки, в верхней трети ее —
красивая, исполненная прописью надпись „А. Г. Габричевский".
Слева от надписи, в углу — изображение сердца, пронзенного
стрелой и истекающего кровью, капли которого постепенно
превращаются в цветы. В правом верхнем углу — профильное изображение
парящей обнаженной мужской фигуры, держащей у рта огромный рог
для вина с сыплющимися из него цветами. В центре нижней
трети обложки — заключенное в овал также профильное
изображение обнаженной
женской фигуры, собирающей виноград. Справа от нее, у самого
корешка тетради — человеческая голова
en
face
с завязанными глазами и с
большим раздвинутым в улыбке
ртом. Между этой „маской" и „сборщицей винограда" изображена
корова, а под ней слово „здоровье", и ниже — свинья,
между коротенькими передними ножками которой надпись „будешь
толстый". Справа от женской фигурки — надпись „успех в делах
любви". А под нею незамысловатый образ „кружки Эсмарха", и рядом
— фраза „живот болеть не будет". Наконец, в нижней центральной
части композиции изображение
cor
ardens,
Слева от него — незабудки с обрамляющей их надписью „друзья тебя
не забудут", а в левом, противоположном углу обложки — снова
цветы, и также обрамленные фразой — „осыпают тебя красные розы".
3
Ср.: „...И вот начинаются попытки
нового медленного завоевания материи через поверхность,
искусство начинает прислушиваться к ее забытому языку и,
предвосхищая желанную победу, готово
в поверхности любой вещи
видеть фактуру, т. е. трепет, казалось бы, навсегда умерщвленной
жизни..." // Указ. соч. С. 38; а также ср.: «...я термин
„фактура" употребляю в самом широком смысле,
включающем в себя как момент
оформления извне, т. е. как след творческого акта, так и оформления
изнутри, т. е. органическую физиогномику объекта». Указ. соч. С.
56.
4
Указ. соч. С. 34-35.
5
Цит. по: Марков В. [Матвей В.]
Фактура. Принципы творчества в пластических искусствах. СПб:
Союз молодежи, 1914. С. 60.
6
Приводим по: Аксенов И. А. Пикассо и
окрестности. М.: Центрифуга, 1917. С. 12.
7
Подробнее об этом см. статью А. В.
Петровского „Воздух" в кн.: Христианство. Энциклопедический
словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. Т. 1. С.
371.
8
Цит. по: Матисс
Анри. Статьи об искусстве. Письма. Переписка. Записи бесед.
Суждения современников. М.:
Искусство, 1993. С. 36.
9
Цит. по: Матисс А. Указ. соч. С. 318.
10
Цит. по: Аксенов И. А. Указ. соч. С.
43.
11
В этой связи, к примеру, см.: Межале
Б. С. Мифологема камень и параллельные образы в латышских
народных песнях похоронного обряда // Этнолингвистика текста:
семиотика малых форм фольклора. М.: Институт славяноведения и
балканистики АН СССР, 1988. Т. 1. С. 193-195.
12
Признаться, напоминание об этом я весьма
своевременно нашел в статье Т. В. Цивьян „Слово в тексте
магического действия" — на с. 187 того самого сборника, что был
упомянут мною в предыдущем
пункте текущих
примечаний.
13
Цит. по:
Аксенов И. А. Указ. соч. С. 36.
14
См.: «Характер первых надписей вполне ясно
цитирует свои бытовые источники. Это эмалевые
буквы парижских
витрин, заменяющие тамошним торговцам наши вывески. <...>
Появившиеся впоследствие и принявшие характер навязчивого
представления легенды: „pale
ale" и „Bass"
— находятся в натуре на стеклянном щите, перегораживающем
тротуар
b-d
Raspail,
возле кафе Ротонды. Место, куда Пикассо выводит своего пса <...>
— единственная, почти прогулка за день. Задним занавесом служит
ему обыкновенно выдержка из афиши: „tout
les soirs"
или этикет винной бутылки
Vien Mare(alla)».
Аксенов И. А. Указ. соч. С. 41.
15
Ср.:
„...если я чувствую себя палладином петрушек с 1916 года, то
теневой театр полонил меня гораздо раньше. Теневые спектакли,
устраиваемые с 1905 года то здесь, то там для удовольствия
своего и знакомых, были, очевидно, моими этюдами к этой работе. Кто видел эти
спектакли, вспоминает о
них, как о чем-то совсем
необыкновенном, что, им кажется, они видели даже не теперь, а
когда-то в
детстве, в какой-то другой жизни". Цит. по:
Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. М.:
Советский художник, 1982. С. 272.
16
Ср.:
„Идеал пьес теней и пьес петрушек как раз противоположен. Пьеса
петрушек — вся — ощутимое действие, меняющее состояние предмета.
Для теней — картины и картины. Как можно меньше
именно такого действенного
действия. Действие возможно почти только в смысле
передвижения...". Симонович-Ефимова Н. Я. Указ. соч. С.
279.
17
Ср.: „...я попросила позировать товарища по
кукольному театру. Это были гигантские голубые портреты их
теней. Портрет тени говорит о человеке не меньше, чем портрет с
него самого...". Цит. по:
Симонович-Ефимова Н.
Я. Указ. соч. С. 278.
18
Ср.:
„Силуэт — как бы формула и — одновременно — намек на
незримое...". Голлербах Э. Ф. Искусство силуэта. Цит. по:
Симонович-Ефимова Н. Я. Указ. соч. С. 326.
19
Ср.: „Но только один Андерсен, который
вдохновлялся от мира, от цветов, от луча солнца, от лесного
холма <...> увидел тень воочию. И испугался ее ..." Цит. по:
Симонович-Ефимова Н. Я. Указ. соч. С. 273.
20
Цит. по:
Ефимов Иван. Об искусстве и художниках. М.: Советский художник,
1977. С. 198.
21
Флоренский Павел. Мнимости в геометрии.
Расширение области двухмерных образов геометрии.
(Опыт нового
истолкования мнимостей). М.: Поморье, 1922. С. 59-60.
22
Цит. по:
Моклер К. Импрессионизм: его история, его эстетика, его мастера.
М.: Издание Ю. И. Лепков- ского<б. д.>. С. 21.
23
Моклер К.
Указ. соч. С. 19.
24
Устно —
Н. И. Клейман.
Хотя, коллаж — это
ведь еще детские игры с наклейками („переводными картинками"),
которые родом-то из эпохи
XIX
века —
времени детства Эйзенштейна.
25
Цит. по: Аксенов И. А. Сергей Эйзенштейн. Портрет
художника. М.: Всесоюзное творческо-произ-
водственное
объединение „Киноцентр", 1991. С. 30.
26
Об этом см.: Клейман В. Формула финала: Статьи.
Выступления. Беседы. М.: Эйзенштейн-центр,
2004. С. 96.
27
Max Ernst. Biographical Notes. Tissue of Truth,
Tissue of Lies // Spies, Werner (ed.) Max Ernst.
A Retrospective.
Munich:
Prestel-Verlag,
1991.
P.
291. Отметим еще и то, что это определение коллажа отнесено его
автором к 1919 году.
Ibid.
28
Цит. по:
Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. СПб: Академический
проект, 1995. С. 228.
29
Что же до факта, то его достоверность кажется достаточной,
поскольку опирается на пронзительность
(по крайней мере, в данном
случае) памяти жены поэта, помимо иных, косвенных свидетельств;
в этой связи см.: Мандельштам О. Э. Стихотворения. М.:
Республика, 1992. С. 393—394.
30
„Расследование" того заграничного и загадочного
„приключения" Татлина, размещенное в двух номерах
журнала, см.: Стригалев А. А. О поездке Татлина в Берлин и Париж
// Искусство, 1989. № 2. С. 39-44; №3. С. 26-31.
31
Цит. по:
Hammacher A.
M.
Jaques Lipchitz.
N.Y.,
1975.
P.
69; здесь приводятся по: Стригалев А. А. Указ. соч. № 2. С. 43.
32
Приводится нами по кн.: Пунин Н. Н. О Татлине. М.:
RA,
1994. С. 114.
33
Пестель В. Е. Воспоминания. Рукопись. Архив семьи
художницы.
34
Цит. по:
Хлебников Велимир. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3: Стихотворения
1917-1922. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931. С. 340-342.
35
Цит. по:
Хлебников Велимир. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1: Литературная
биография. Стихотворения 1904-1916. М.: ИМЛИ РАН „Наследие",
2000. С. 374.
36
См.
Стригалев А. А. Владимир Татлин. Ретроспектива.
Koln: Du Mont/Buchverlag, [1993].
С. 116-117, ил.78-79.
|